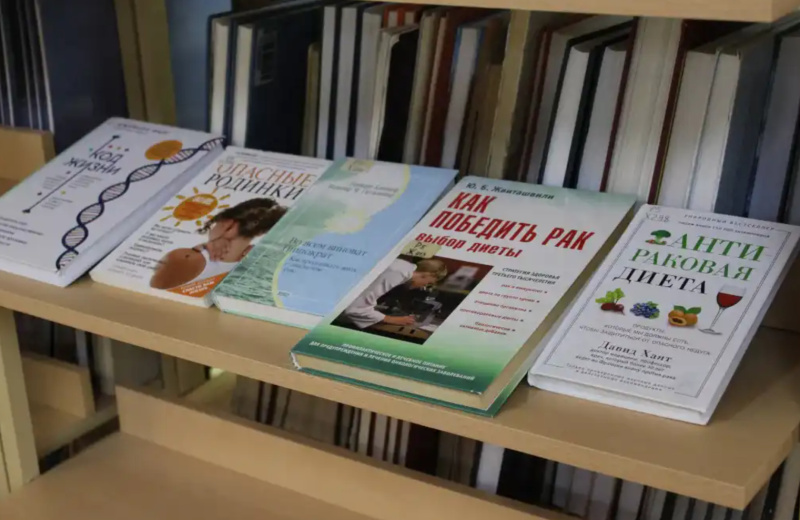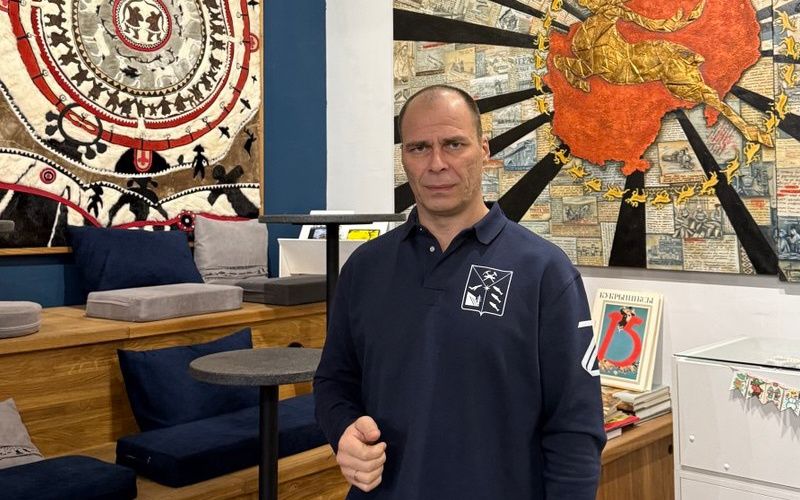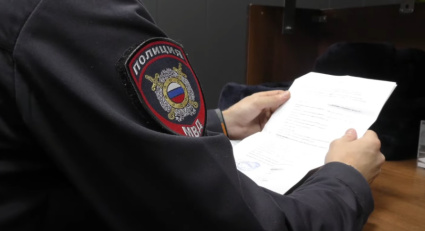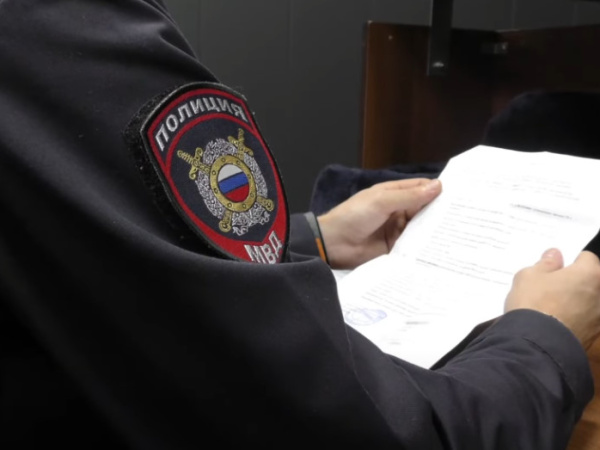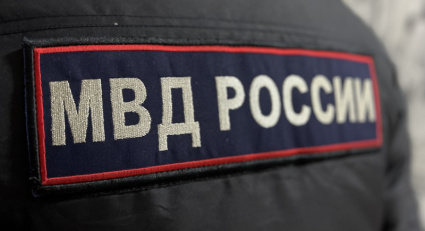Как рассказал мне Кирилл Эттенно, этот портсигар, сделанный из обломков крыла самолета, принадлежал советскому военнопленному, находившемуся на территории оккупированной нацистами Hopвегии в лагере дт русских.
Прежде чем сфотографировать эту вещь, я осторожно обвела карандашом то, что было выгравировано на крышке: годы Великой Отечественной, аббревиатуру ушедшей в прошлое страны -СССР, символы советского времени - серп и молот, колоски и название норвежской столицы...
За этим, в общем-то, простым занятием руки от волнения немного дрожали.
- Кирилл Геннадьевич, где вы обнаружили этот портсигар?
- Мне отдала его мама, когда я приехал к ней в гости в Норвегию. Однажды она разбирала старые вещи на чердаке дома, а они с мужем живут в поселке Флиса, расположенном недалеко от Осло, и нашла там портсигар вместе с карточками, которые выдавали норвежцам в годы оккупации гитлеровской Германией.
Причем, что интересно, выдавали их буквально на все - на одежду, муку, картофель, сахар, кофе, чай, мыло... Чуть ли до шампуня и индивидуальных гигиенических средств не доходило. Все было так цивилизованно...
Так вот, когда мама нашла портсигар, стала расспрашивать мужа. И он рассказал, что его дед Арни Лиллеберг, когда был еще пацаном, выменял его у советского военнопленного на кусок хлеба.

Недалеко от деревни, где Арни жил с родителями, находились два лагеря для военнопленных: один - международный, второй - для русских. Но если американцев и англичан кормили более-менее сносно, то русские испытывали настоящий голод, и местные жители тайком носили им продукты.
- Знаю, что ваша мама - педагог, в одной из магаданских школ она преподавала историю и английский. Наверняка как историк заинтересовалась темой советских военнопленных в Норвегии?
- Да, по образованию она историк, но долгое время, хотя имеет норвежское гражданство и является подданной норвежского короля, не могла устроиться на работу. С этим у эмигрантов, как правило, большие проблемы.
Но поскольку она знает русский, норвежский и английский, недавно ее приняли на работу в один из музеев Осло. Теперь, имея доступ к историческим документам, она наверняка сможет подготовить по этой теме свое исследование.
Насколько я знаю из той информации, которую мне удалось собрать по Интернету, в нашей отечественной историографии тема советских военнопленных в Норвегии до сих пор является практически неизученной и представлена лишь несколькими статьями ученых.
В них говорится о том, что на принудительных работах в Норвегии в годы нацистской оккупации находились около 100 тысяч советских военнопленных. Порядка 14 тысяч захоронены в братских могилах по всей территории страны.
Когда я приезжаю к родным в Норвегию, обязательно посещаю кладбище, расположенное в районе Хэдмарк, где похоронены неизвестные русские солдаты. - там
пятнадцать могил.
Стоят каменные плиты, на каждой из которых написано: "Русский солдат1', а посредине - памятник в честь погибших советских воинов.
Но не государство Норвегия финансирует содержание этих могил, за ними ухаживают местные жители. Как правило, коммуна принимает решение (а норвежцы в большинстве своем состоят в коммунах) о том, что надо ухаживать за могилами русских солдат, и жители делают это на собственные деньги, чем выражают глубокое уважение к памяти погибших. Я уже трижды был на этом кладбище и каждый раз видел на могилах наших солдат цветы.
И вот еще что интересно. В районе Хэдмарк, где живут мои родные, есть старинная таверна, построенная еще в 19 веке. И там висят фотографии, на одной из которых запечатлено, как после капитуляции немецкие генералы передают норвежским повстанцам-партизанам ключи.
Видимо, именно в районе Хэдмарк, а не в Осло состоялось подписание акта о капитуляции нацистских войск с территории Норвегии.
- Кирилл Геннадьевич, из информации, собранной вами в Интернете, что-то удалось узнать о том, какие работы выполняли военнопленные, в том числе и из СССР, в каких условиях они содержались в лагерях?
- Когда в результате военной операции "Везерюбунг" в апреле 1940 года территории Норвегии и Дании были оккупированы нацистскими войсками, перед германским командованием возник вопрос об источнике рабочей силы для реализации планов нацистов - использовать сырьевые ресурсы Скандинавского полуострова в интересах экономики Рейха.
Именно потребность втру-довых ресурсах и стала основной причиной создания на территории Норвегии разветвленной системы лагерей для военнопленных и "восточных рабочих".
Особое значение для фашистской Германии имели два строительных объекта: железная дорога "Нордландсбанен", по которой должна была осуществляться транспортировка металлов (в первую очередь, никеля) для немецкой экономики, и военно-морская база в Тродхейме - важнейшая база сдерживания морских сил союзников по антигитлеровской коалиции.
Однако с увеличением численности пленных, они привлекались также на строительство промышленных предприятий и автомобильных дорог.
Их ежедневный рацион составлял литр вегетарианского супа и 300 граммов хлеба. Изредка военнопленным давали немного мяса, картофеля или рыбы. Такая
продовольственная ситуация естественным образом отражалась на здоровье военнопленных.
Наиболее сложное положение складывалось в северных районах Норвегии, где в условиях сурового арктического климата узники были заняты на самых тяжелых работах. Там в лагерях уровень средне и тяжело больных достигал 70 процентов. Многие не выдерживали каторжного труда и погибали.
Жертвами нацистского режима в Норвегии стали около 2 тысяч "восточных рабочих" из СССР и, как я уже говорил, 14 тысяч советских военнопленных. Самая высокая смертность была отмечена в северных районах, где погибло 75 процентов от общего числа жертв среди советских граждан в Норвегии.
- Наверное, в нашей жизни ничего не бывает случайным. Подчас случайности - как что-то закономерное. Русская жена находит в доме мужа-норвежца портсигар советского военнопленного, что весьма символично.
И эта реликвия, в свою очередь, станет звеном в той цепочке, благодаря которой можно будет что-то еще узнать о наших военнопленных в Норвегии.
- Это, наверное, так, ведь в истории Великой Отечественной еще немало неизвестных страниц.
Сегодня картину Второй мировой войны переписывают чуть ли не наново. Ревизия ее причин и итогов идет во всех сферах - от геополитики до публицистики и культуры. Но если мы докопаемся до исторической правды, переписать не удастся.
- Кирилл Геннадьевич, среди ваших родных есть участники войны?
-Да, у меня прадед Яков Кириллович Игнатюк по дедовской линии - Почетный гражданин города Хабаровска, почетный чекист - в годы войны работал в разведке, лично был знаком с Ежовым. Но умер 15 лет назад, так и не сказав родным ни слова о том, где был, какие задания выполнял.
А с войны он вернулся с наградным табельным оружием.
С трепетом держу в руках привезенный Кириллом Эттенко из Норвегии этот небольшой портсигар - кто его бывший хозяин, вырвался ли из плена, остался ли жив? Или же испытывал за колючей проволокой невообразимые страдания, выполняя чисто рабский труд, и похоронен в чужой стране?
Вспомнилось одно из откровеннейших интервью Булата Окуджавы. Он в качестве рядового пехоты хлебнувший лиха вспоминал солдатское прошлое: как они ходили строем - обносившиеся, босые.
Как по дороге на фронт, некормленые, христарадничали в кубанских селах. Как и на передовую рвались потому - хотя бы отчасти, - "что там жратва была лучше, и вообще повольней было: если не убьют, значит, хорошо".
Зная такую правду о советских солдатах, можно представить, какие тяжкие испытания ожидали наших военнопленных. И не только в Норвегии.
Но война чаще всего мифологизируется: "окопную правду" сочно ретушируют отвагой, несгибаемостью, героизмом.
Может, это естественно для всего, что стало историей (злодей Иван Грозный, что там ни говори, воспринимается много спокойней, чем злодей Сталин, которого в последние годы упорно реанимируют).
А во-вторых, и, быть может, в главных, сама по себе мифологизация есть осознание не только отдаленности события, но и причастности к нему. Ведь мифологизация - это, как правило, быль, прошедшая испытание обобщенностью.
Но резанут душу строки рядового пехоты Булата Окуджавы:
Редели их ряды и убывали. Их убивали. Их позабывали. И все-таки под музыку Земли их в поминанье светлое внесли, когда на пятачке земного шара под майский марш, неистовый такой, отбила каблуки, танцуя, пара за упокой их душ. За упокой...
Портсигар из Норвегии Кирилл Эттенко передаст в Магаданский областной краеведческий музей.
Елена Шарова
Колымский тракт