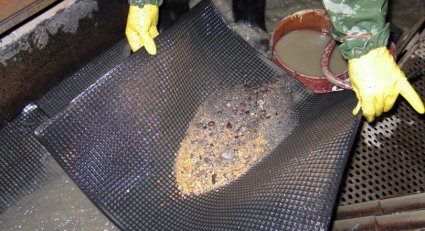Родился в Красноярске. Там же закончил Сибирский технологический институт. С 1973 года на Севере. Работал в строительных организациях, в коммунальном хозяйстве, учреждениях культуры...
Первые рассказы были опубликованы в конце 60-х. потом публиковался в газетах и журналах, альманахах. Автор сборника фельетонов "Кучеряво живем", иронической повести "Клад", романа-конспекта "Инсайт", книги "Рашан вариант".
Член Союза журналистов России. В настоящее время - член редакции газеты "Дневник Колымы"
"Баракорола" (рассказ)
Казалось, солнце никогда уже и не взойдет. Так темно было тем утром... Возможно, наступающий день нес с собой непроницаемые для света низкие тучи.
... И только старый пустой барак пылал в этой утренней темени гигантским костром.
Тушили его вяло. Не представлял расселенный уже объект реальной опасности. Прибывшие пожарные, скорее, только присматривали за огнем, чтобы случайно не перекинулся на ближайшие строения...
Холодным январским вечером пронзительно взвизгнул мой домашний телефон.
- Привет, старик! Не узнал? Богатым буду... - звонил Боря Комкин. - Встретиться надо... Нет, ничего не случилось. А просто так... Что? Слабо? Короче, жди. Заеду за тобой. Вот только адресок напомни...
Знакомы мы были лет пятнадцать. Еще по Северо-востокстрою. Когда-то даже дружили... Но так случилось, что, живя в нашем компактном городке, не встречались уже давненько. Пожалуй, где-то года с 91 -го и не встречались... Я слышал только , что Боря сделал несколько челночных ездок на Аляску, купил один, а потом и второй “комок” и будто совершенно изменился, стал сторониться прежних знакомых, избегать не нужных ему встреч, завел новую семью... Словом, и сам превратился в одного из маленьких “новых”. Впрочем, дело тут, наверное, не только в Борисе. Все мы, когда-то друзья-товарищи, встречаемся теперь все реже и реже, порастерявшись в нынешней суматошной жизни...
В “тачке” я оказался четвертым, последним пассажиром. Собрались все знакомые - Борис, Павел Сомов, Виктор Гошенко и я.
- Куда едем-то? - спросил Павел, после рукопожатий.
- В сторону Новой Веселой, шеф! - бодро скомандовал Борис, и машина рванула в ночную темень...
***
... Сквозняки гуляют по остову пустого и бесхозного барака. Шелестят обрывки газет и рваные обои. Где-то рядом поскрипывает уцелевшая дверь. Вздрагивая, звенит в одной из оконных рам еще недобитое стекло...
- Ну что мы, бичи какие, что ли? - полубрезгливо произносит Виктор.
- Все мы в этой жизни... Накось, открывай шпроты. И меньше философствуй! - обрывает Борис. - Замерзнем. Если не примем...
- И как ты отыскал его... Этот барак? - удивляется Павел. - Ведь точь-в-точь - наш бывший! У тебя, прямо, нюх какой-то...
- А они все похожи, - вздыхает Борис. - Как первая любовь...
- Ну, все! Кончай, ребята! - не выдерживает Виктор. - У нас еще в запасе четырнадцать минут!..
Возможно, я ошибаюсь, но, думается, все мы прошли своеобразный “курс барака”, почти все вышли
- О всех так говорить не надо, - спокойно возражает Борис.
- Уж ты-то молчал бы! - не сдается Павел. - Элде-перешник несчастный!
-Промахнулся! - издевается Борис. -Я давно уж... монархист.
- Ну и как у вас там... в монархии? - интересуется Виктор.
- А ничего. Там люди пристойные.
-Иуда, князья всякие, потомки... Короче, есть что делить, - не унимается Павел. - А я - потомок Чингисхана! Так что теперь? Что делим? А?
- Мы все - потомки Чингисхана... - примирительно заключает Виктор. - Давайте о бабах, что ли, поговорим.
- Эх, мужики! Как хочется чего-то... Светлого! Теплого! - выкрикивает Борис. - Надоело! Суетень эта надоела...
- Во, дает! - смеется Виктор. - Что ты предлагаешь-то?
- Я? Предлагаю! Все вернуть на свои места. Раз! Стать прежними. Два! Остальное...
- Как это... на свои места? - не понимает Павел. -Объясни...
- А я знаю! - перебивает Виктор. - Борька правильно сделал! Нам всем надо вернуться сюда...
- Куда? - недоумевает Павел. - В барак что ли?!
- А что? - кричит Борис. - Для этого я и притащил вас сюда. Есть у меня одна идея...
- Это какая же?
-А вот взять и... выкупить этот барак! Вскладчину...
- Зачем?
- Как, зачем?.. Жить.
- Здесь?!
-Ну... Ремонт сделаем, благоустроим и все такое... - разъясняет Борис. - Вы только вдумайтесь!
***
- А почему бы и нет? - Как бы сам себя спрашивает Виктор после долгого всеобщего молчания. - По крайней мере мы друг друга знаем. Хоть уже и не те, что были... Но все равно, будет какая-то определенность.
- Не хочу в барак? - кричит Павел. - Не хочу!
- Смотри-ка ты! Он не хочет! А коллектив желает!
-Голос... суем!
***
- Беловежская путча! - орет Павел, сливая все оставшееся в один стакан. -Н-ну!
- Счас спою! - выпив и крякнув довольно обещает Борис. - Эту... как ее? Барака... Баракар... баракаро-лу. Во!
- Баркаролу... - поправляет его Виктор.
- Чего, чего?
- Песня такая есть...
***
Есть такая песня. У венецианских гондольеров. Когда-то давным давно слышал я ту песню по всесоюзному радио. Минорный такой мотив, напоминающий плеск волн... Минорный, но не безнадежный. Есть в песне все-таки надежда. А иначе... и песни не получилось бы.
***
Возбужденные и охмелевшие от неожиданно принятого решения, пожалуй, более, чем от спиртного, шагали мы в сторону еще по-ночному тихого города. Перебивая друг друга, на ходу продолжали обсуждать почти фантастический прожект.
- Да из него настоящую виллу можно сделать!
- А если еще внутреннюю перепланировку продумать!
- И никакой он даже не ветхий! А расселили, потому что полно теперь квартир освобождается. Народ-то сматывается.
- Конечно!
- Отсюда и то видно, барак наш - что надо! Все мы невольно оглянулись...
***
... Барак горел. Горел, напоминая гигантский нетушимый костер.
"Рашан-вариант" (повесть)
Валерий Петрович Свистунов
Раньше Бармин жил для жены, для сына, правда, не своего, родного, но все равно, раз он любил жену. Теперь же он существовал лишь для страха. Страх, казалось, въелся в каждую клеточку сильного тела, где-то на непознанной глубине оставаясь невидимым чудовищем, бесконечно жаждавшим пищи. Вся энергия, все духовные силы Бармина уходили лишь на то, чтобы от окружающих тщательнее спрятать этот страх, о причине которого он не догадывался… Однако никто не замечал, что творится под привлекательной мужественной маской лица с тревожными льдинками зеленых глаз…
…Сейчас Бармин находился на пятом этаже громадной общаги в комнате Славика, которого втайне ненавидел. Сука! "Победу" с золотыми стрелками (последняя родительская память) у него, похмельного, снял с руки и толкнул за пару бутылок. А Бармин потом пил с ним и помалкивал.
Нынешняя ночь туманная, воровская, дьявольская, замешанная на собачьей крови!-суки и выводка щенят, пущенных на закусь…
А в комнате Бармина, на третьем этаже, на кровати Валерки
(сотоварища по комнате) во сне разметалась обнаженная уборщица Машка. На животе губной помадой намалевана багровая, похабная морда. Крепко спит пьяная и сытая уборщица, переполненная мужским семенем. Порою, она неделями не вылезала из общаги. Мужики накормят, напоят, спать уложат да еще коридор шваброй выдраят…
Странная, дикая, воровская ночь, замешанная на крови!..
В большой сковородке на плитке шкворачат, подрумяниваясь, куски собачьего мяса. Насос форточки не успевает отсасывать тяжелый чад.
Никогда не пробовавший собачины, пацан нервно заглатывает слюну. Чистенький, приглаженный мальчик в кофейных брюках и черно-красном джемпере, выглядывает белая рубашечка. Падаль!.. недавно ему, спавшему Бармину, папиросой руку прижёг. Славик потом раскололся, наверное, готов отдать пацана, ведь Бармин четырех таких стоит… Славик и Генка опасаются, потому и стараются сделать корешом. Вот его, похмельного, и повязали ворованным вином.
Проснулся Бармин в полночь, голова гудит-пиво, водка, бормотуха такая адская смесь! А перед глазами голое пузо Машки, морда на ней красная с серым клинышком бороды ухмыляется. Наконец сообразил-бороденка, это Машкина растительность. И накатила тошнота! А тут Славик в дверях. Плечи обвислые, как у борца, бросившего ковер: чугунная тяжесть и крепость в приземистости тела. Будто не видя Бармина, сопя, как хряк, он забрался на Машку.
По дороге в туалет Бармин обрыгал весь коридор. Возле рыжей раковины умывальника Славик уговорил его смотаться в "старый город". Чучмеки пригнали вагон с вином, в тупике уже разведенное "толкают" сквозь дверную щель. Бичихи, что весь день гомозятся возле вагона, обрыдли, мужики при деньгах, им теперь подавай пошикарнее. На ночь в город уезжают…
Помятый старый "Урал", желтым глазом фары прожигая дыру в тумане, описав гигантскую дугу, домчал до места. Плотничьим сверлом пробуравили дно вагона, и попали (повезло же!) прямо в бочку с вином - да с каким! Это вино из мускатных сортов винограда, видать, для начальства берегли… Нацедили две канистры, деревянным клином забили дырку, смотались в общагу, а потом еще одна "ходка".
Теперь под кроватью Славика две десятилитровые канистры и два ведра восхитительного напитка из винограда "черные глазки".
Дармовой выпивки надолго хватит.
У пацана в городе квартира, мать, сестра, брат, а он здесь отирается. Сам по себе он шкет, а вот со Славиком и Генкой - фигура! Большие глаза, холодные, неулыбчивые, опушены девичьими длинными ресницами. Кожа нежная. Сотоварищ по комнате Валерка (недавно от "хозяина", торчал за "карман") при виде его тает. Валерка - бисексуал, ему все равно, что Машка, что пацан. Долгими зимними вечерами, копаясь в старом приемнике (хобби), он с нежностью рассказывал о Пашке в зоне, у Бармина вызывая омерзение. Валерка казался громадной серой вошью. Ногти на больших пальцах мысленно росли, увеличиваясь до исполинских размеров, и между ними слышался хруст раздавленного, отвратительного насекомого…
Валерка носил шляпу, фасонистое клетчатое пальто, по вечерам ходил на железнодорожный вокзал, где играл в "очко" - наугад пытался подобрать шифр к ячейкам камеры хранения. А там, может, и беспризорный "угол" (чемодан) под руку подвернется.
Он тощий, маленький, насквозь прочифиренный. Точно прорезанные бритвой, от крыльев вывернутых ноздрей до уголков рта - складки. При виде женщины с широким задом глаза его, близко поставленные к переносице, словно заполнялись жиром… В восторге он руками делал жест, к нижней части тела как бы притягивая впереди двигавшийся объект, восклицая: "Такой п……..к, двадцать пять пивных кружек не закроет!.."
…Хмельная волна, мягко покачивая, куда-то несет пацана. Тонкая белая рука свесилась с кровати, с сигареты на пол сыплется пепел. Никак не могущий переступить черту постыдной девственности, он думает о Машке…
Бармину хорошо, хмель от дорогого вина приятный, голова ясная, а ноги точно деревянные. Ему лень отрываться от табуретки, чтоб подойти к пацану. Он знает свой удар, от которого на лице противника лопается кожа, а костяшки сбитых пальцев потом долго подживают. Но он не жесток, и дрался лишь тогда, когда его загоняли в угол, мягкость принимая за трусость…
Славик, как древний деревянный божок, смазанный жиром, благодушен и распарен. Меж его ног ведро вина, по краям застыла розовая пена. Над головой "виночерпия" на серой
известке стены громоздятся мутно-синие вулканы, у подножий пальмы с грязно-зелеными лохмами крон, из розовато-лилового океана, закопченного табачным дымом, торчит краешек буро-красного, плоского солнца. Работа бывшего художника-дизайнера, сейчас пробавляющегося покраской полов в строительном участке. Художник-маляр, взъерошенный как воробей после купания, глазом табачного цвета напряженно следит за ведром: много ли еще там осталось?
Скрипит дверь. Очередной мужичок в столь позднее время пронюхавший о грандиозной выпивке, заискивающе щерит полувыбитые, полусъеденные зубы. Получив полную пол-литровую кружку драгоценного вина, он с жадностью проглатывает черно-красную влагу, морщась точно от одеколона. Вытерев слезу напряжения, выпитое заедает куском лжебаранины. Теперь он за Славика кому хош глотку порвет, хотя совсем недавно его скулы трещали под кулаками Славкиной команды! Все, кто сейчас жрал ворованное вино, биты им. Может, они не простили, затаились в глубине души, ожидая лишь случая… Да разве такое прощается, когда тебя на "гоп-стоп" в твоем же жилье!..
Да что там отобранная сотня, наконец, собственная кирзовая рожа?! Жизнь, судьба, обстоятельства так вдарили! Все они бывшие. От ладьи, на которой они когда-то юные, полные сил и надежд отплывали в мир, одни обломки. Здесь берег: море, океан, дальше бежать некуда. Словно некая гигантская метла смела их со всего бывшего Союза, на отшибе догнивать в одной куче!
А Славику и Генке хорошо - они волки…
На корточках у двери смолят веселые, поддавшие мужики. Серебряный говор гитары бередит чувства. Полыхает вишневый лак корпуса, где белозубо скалятся белокурые, лощеные красотки. Самая наглая и пышная на ладонях держит тяжелые, оранжевые груди, но к ней не подступишься, слишком дорого стоит, Машка намного дешевле… Как колымская пурга, выворачивая душу, с блатным надрывом тянет Генка, заскорузлой клешней ладони неожиданно ловко щипля серебряные струны. И-и -эх!.. Без гитары жизнь копейка!
Уголь воркутинских шахт
зловещим огнем горит,
каждый кусок угля
кровью зека полит…
Бармин вдруг понял, почему Славик в такой силе и авторитете. Он жесток, но в то же время широк и щедр, и хитер, как росомаха. Выбивая из одних, поил других, а потом и тех и этих, сам, конечно, не оставаясь внакладе. Вот это дармовое вино ему многократно окупится. Общага большая, на каждом из пяти этажей, в какой-либо комнате у кого-либо обязательно водились бабки. Если где-либо в темном закутке общаги появлялся новый, более мелкий, хищник, мужички к Славику - тут он уже заступа, надежа. У Славика всегда выпивка, курево и харч, мужички, ненавидя, любили его - вот такой странный сплав! Даже Генка - "Чубчик " (на широченной костистой груди выколот фиолетовый крест), подчинялся Славику…
Славик даже про двух паралитиков не забыл. Те жили на кухне с окнами с выбитыми стеклами, дыры заколочены фанерными листами. Зимой на подоконник ветер наметал сугробики снежной пудры. Раскладушки инвалидов похожи на хозяев: алюминиевые скелеты замотаны проволокой, застелены заблеванными байковыми одеялами. Крохотные пенсии они сразу пропивали, а после побирались по комнатам, и мужики не отказывали: кто хлеба, кто чая, кто курева. В артели не пропадешь.
Каждый день и вечер, как в неком страшном зеркале, уродливо отражаться друг в друге!.. После выпитого накопившиеся злоба и ненависть вырывались наружу. Сидя на раскладушках, инвалиды хлестались клюшками: трещали черепа, красные струйки змеились по испитым лицам. Нагоготавшись, мужики отнимали у них "оружие" .
В дяде Коле словно некий вибратор постоянно работал: голова в беленьких воздушных волосиках мелко тряслась, судорожно подергивались щеки, выплясывали пальцы. Младенчески молочная голубизна глаз непрерывно сочилась соленой влагой.
Второй инвалид - Санька, парень двадцати пяти лет с длинным унылым носом и со срезанным подбородком. В общаге его звали "Шлеп-нога". Когда он неуверенно двигался по коридору, левая ступня, не подчиняясь мертвым мышцам, свободно хлопала по половицам. Солью и водой не очистив политуру, он хватанул
целую бутылку. Откачали… Да только шлепать ему теперь до самой смерти.
Миску лжебаранины и полчайника вина инвалидам понес Бармин. На втором этаже, проходя мимо одной комнаты, он вспомнил недавнюю сцену.
- Понимаешь, что за человек! - кричал кочегар-татарин с широким медным прокаленным лицом и жестким ежиком волос над лоснящимся лбом. - Лежит весь день, молчит, морда к стене, целый месяц лежит, целый месяц молчит, а кто кормить будет? Ночью, как шакал, по столу шарит…
Бармин заглянул в комнату, увидел впалую щеку, русые свалявшиеся волосы штурмана, списанного с судна.
Ему знакомо это куда-то засасывающее состояние, знакома тягучая тоска, постепенно переходящая в равнодушие и апатию. Даже потребности плоти минимальны - энергия и душа покинули оболочку…
* * *
С Евгенией его свел случай, ее странное обоняние, непонятные ему тончайшие оттенки ее чувствований…
Стоял Бармин возле кассы автовокзала в очереди. Май, лето и половину сентября он отмантулил в геологоразведывательной партии, в горной тундре. Он в кирзовых разношенных сапогах, в зеленовато-желтой телогрейке, возле ног туго набитый рюкзак. Обернулся, а личико изящной маленькой дамочки чуть ли не уткнулось ему в спину. Большие влажно-карие глаза полузакрыты матовыми веками, лепестки нервных ноздрей трепещут, а смугловатые щечки румянятся…
Запашок сейчас от Бармина ядреный - как не вышибай, а долго продержатся сладковатая прель редко мытого тела, запах стланиковой смолы, влажность ягеля, и гарь бесчисленных кострищ.
…Бросив очередь, на такси они укатили в парк возле кинотеатра "Горняк", где облысевшие лиственницы мертвенно чернели тяжелыми узловатыми ветвями, а под ногами с металлическим шорохом перекатывались сухие ольховые листья. Бармин и Евгения не видели бездомной тоски и заброшенности северного парка, почуявшего снег. Сладкими от ликера губами, как безумные, они целовались на скамейке, засыпанной медными иглами и ломкими желто-бурыми листьями. Вместо родного поселка, где его никто не ждал, он уехал со странной, изящной как горностай, женщиной.
В жилах Евгении текла гремучая смесь из украинской, молдавской и еврейской крови. Он никогда не знал наперед, чего от нее можно ожидать. Если б это стало возможным в общении, она бы вообще отказалась от слов - только взгляд, мина, улыбка, касание, поцелуй, жест… И он все должен разгадывать.
- Что случилось?
Молчит, губы кусает, а в глазах такая боль, такое страдание.
Потом взрыв:
- Ты грубый, невежественный эгоист!.. Ничего не видишь, ничего не
чувствуешь!..
Оказывается, ей неожиданно захотелось, чтобы на руках он поносил ее по комнате, побаюкал, как маленькую. Или - прежде чем отдаться, ни с того, ни с сего, требует у него расписку, что в выходные на целый день он опустит её к подруге. Как будто она всецело зависела от его воли. Но, усмехаясь, под диктовку любовницы он пишет расписку. Аккуратно сложив, она прячет ее в шкатулку. О, сколько там их скопилось! Как пожалеет потом, что писал эти странные расписки…
…В самом конце полевого сезона от Евгении пришло коротенькое письмо. Всего несколько строчек, но как от них защемило сердце, как оно заныло! Думал, не вынесет. Минералог, ширококостная женщина, с утиным носом и мужскими руками (любовница начальника партии), во вьючных сундуках отыскала флакон денатурата. Бармин даже не ощутил отвратительного вкуса синеватой обжигающей жидкости.
"Я снова, ради сына, сошлась с бывшим мужем…"
О, как тонко, как остро, как пряно в постели она высмеивала прежнего мужа, в Бармине будя паскудное самцовое превосходство. Теперь же в постели мужу она читает его расписки, а тот ржет.
"М-м-м!.. Вот почему она не хотела от него ребенка…"
…Свои вещи он забрал у подруги Евгении, инженер - строителя. Она весьма эффектна, высокая, черноволосая, с очень красивыми, засасывающими в себя, сучьими глазами. Но, увы, она была бесплодна, отсюда одинока…
Бармин пил коньяк и отрешенно смотрел, как она ходит по комнате. Возле пышной кровати, скинув меховую тапочку с белой опушкой, голой подошвой ступни она сладострастно гладила жесткий ворс большого ковра. Ее радостное оживление, нервное (на грани срыва) возбуждение он даже хмельной почувствовал, и ему стало противно. Попрощавшись, он ушел, унося с собой ее последний, странный взгляд, где столько всего перемешалось: ненависть, обида, унижение, страх и… любовь.
…Ничего и никого не видя, он сутки неподвижно просидел в кресле магаданского автовокзала, не заметив даже, как бичи "увели" его чемодан. Потом начались угарные дни и вечера…
Утром он ополаскивал лицо в туалете, где вонь человеческих испражнений перемешивалась с запахом выпитого одеколона, и шел в ресторан, который находился рядом - стоило только перейти дорогу. Денег у него много - отпускные за три года и расчет за полевой сезон.
На широкой эстраде певец головой смахивающий на кастрюлю ( лицо плоское, носик маленький, уши круглые, оттопыренные ), томно закатив глазки, что-то мурлыкал в микрофон, а в голове Шахурдина - "бу-бу-бу". Даже песней, по заказу часто повторяющейся, "Наш магаданский, магаданский ветеро-о-ок" "кастрюля" не смог выдуть вечное, раскалывающее череп "бу-бу-бу"…
В душу заполз непонятный страх, свернувшись в кольцо холодной, скользкой гадюкой…
Однажды, дремля в кресле, затылком он увидел человека за своей спиной, горячее, напряженное дыхание опалило шею. Нож целит прямо под лопатку, лезвие с загнутым кверху концом. Бармин даже крошку (то ли хлебную, то ли табачную) разглядел на синевато-седой стали.
Дикое "А-а-а!.." в полночь подбросило людей в креслах. Стоя на широком из мраморной крошки подоконнике, Бармин с ужасом оглядывал зал, готовый в любую секунду ударить плечом в толстое стекло…
Потом появилась старуха… Ночами он уже не спал, а, полузакрыв глаза, сквозь ресницы следил за обстановкой.
Старуха медленно шла меж кресел, покачивая хозяйственной дерматиновой сумкой с ручками, обмотанными синей изоляционной лентой. А в сумке… топор! Охотничий топорик! Топорище, как лебединая шея, плавно изогнуто, желтое, отшлифованное. В дерматиновой темноте мерцает белая дуга отточенного лезвия.
Словно на одной ноге, Бармин повернулся вокруг своей оси и сел в кресло - ватный, чужой сам себе. Из-под вибрирующих пальцев вслед старухе - затравленный взгляд. В черном длинном пальто, с облезлой грязно-желтой лисой вокруг шеи, в вытертой коричневой пуховой шали, она опять прошла мимо и исчезла на лестнице, идущей вниз.
Бармин оторвался от кресла: вниз по лестнице спускалась обыкновенная старуха, в сетке желтел волнистый батон, в электрическом свете поблескивали железные шляпки бутылок лимонада. И он понял - мозг его болен, надо бежать отсюда, как можно скорее…
По городу с сопок ветер пулял снежной шрапнелью, она взрывалась над домами, белыми невесомыми осколками усеивая проспект Ленина. Хлопья уже не липкие - надвигалась грозная колымская зима.
В Нагаеве в серо-зеленой воде колотые льдины стукались о бетон пирса, со скрежетом проползали вдоль бортов редких судов. Как озябшие, мокрые журавли, опустив головы-клювы, молчали краны.
Сгорбившись под напором железного ветра, по скрипучему трапу Бармин торопливо поднялся на борт, боясь оглянуться назад… Страх сожрал всё - не было в нём той щемящей грусти, что обычно возникает при оставлении родины..
Валерий Петрович Свистунов. "Рашан-вариант" (повесть)